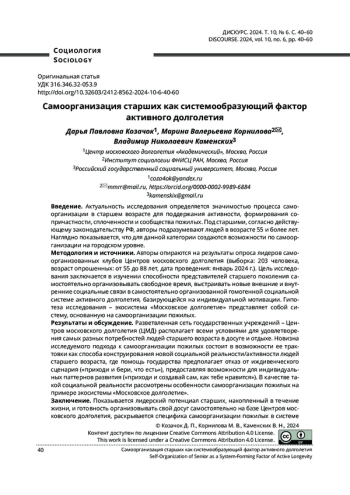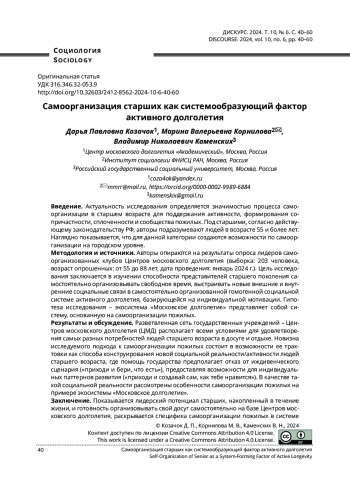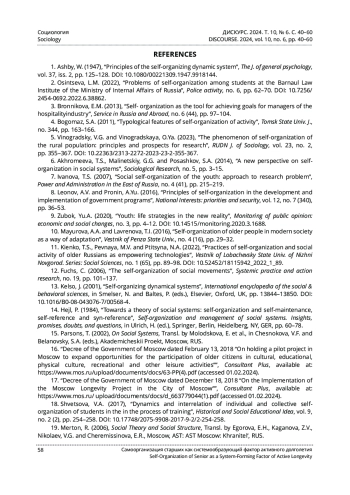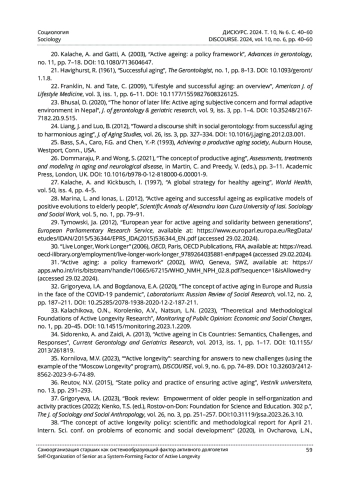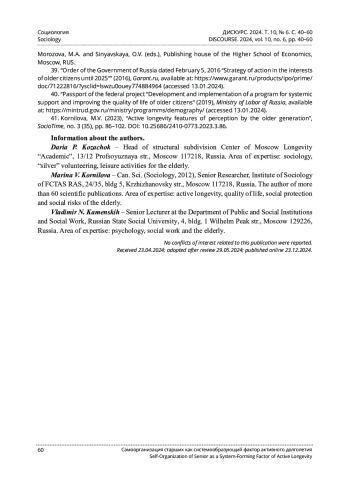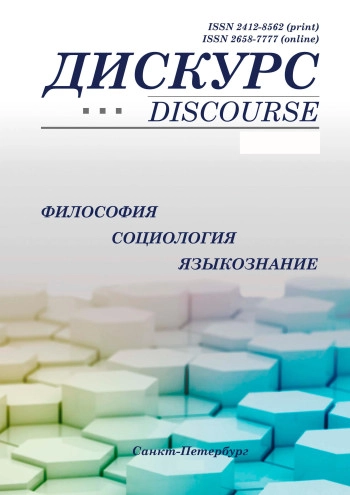Введение. Актуальность исследования определяется значимостью процесса самоорганизации в старшем возрасте для поддержания активности, формирования сопричастности, сплоченности и сообщества пожилых. Под старшими, согласно действующему законодательству РФ, авторы подразумевают людей в возрасте 55 и более лет. Наглядно показывается, что для данной категории создаются возможности по самоорганизации на городском уровне. Методология и источники. Авторы опираются на результаты опроса лидеров самоорганизованных клубов Центров московского долголетия (выборка: 203 человека, возраст опрошенных: от 55 до 88 лет, дата проведения: январь 2024 г.). Цель исследования заключается в изучении способности представителей старшего поколения самостоятельно организовывать свободное время, выстраивать новые внешние и внутренние социальные связи в самостоятельно организованной гомогенной социальной системе активного долголетия, базирующейся на индивидуальной мотивации. Гипотеза исследования - экосистема «Московское долголетие» представляет собой систему, основанную на самоорганизации пожилых. Результаты и обсуждение. Разветвленная сеть государственных учреждений - Центров московского долголетия (ЦМД) располагает всеми условиями для удовлетворения самых разных потребностей людей старшего возраста в досуге и отдыхе. Новизна исследуемого подхода к самоорганизации пожилых состоит в возможности ее трактовки как способа конструирования новой социальной реальности/активности людей старшего возраста, где помощь государства предполагает отказ от иждивенческого сценария («приходи и бери, что есть»), предоставляя возможности для индивидуальных паттернов развития («приходи и создавай сам, как тебе нравится»). В качестве такой социальной реальности рассмотрены особенности самоорганизации пожилых на примере экосистемы «Московское долголетие». Заключение. Показывается лидерский потенциал старших, накопленный в течение жизни, и готовность организовывать свой досуг самостоятельно на базе Центров московского долголетия, раскрывается специфика самоорганизации пожилых в системе активного долголетия г. Москвы. Сделан важный вывод о желании опрошенных быть активными, показана результативность и заинтересованность старших в самоорганизации на базе ЦМД.
Introduction. The relevance of the study is determined by the importance of the process of self-organization in older age for maintaining activity, forming belonging, cohesion and community among the elderly. By older people, according to the current legislation of the Russian Federation, the authors mean people aged 55 and older. It clearly shows that opportunities for self-organization at the city level are being created for this group. Methodology and sources. The authors rely on the results of a survey of leaders of selforganized clubs of the Moscow Longevity Centers (sampling of 203 people, age of respondents from 55 to 88 years, date: January 2024). The purpose of the research is to study the ability of representatives of the older generation to independently organize free time, build new external and internal social connections in an independently organized homogeneous social system of active longevity, based on individual motivation. The research hypothesis is that “Moscow Longevity” is a system based on the self-organization of the elderly. Results and discussion. An extensive network of government institutions - Centers of Moscow Longevity (CML) - has all the conditions to satisfy the most diverse needs of older people in leisure and recreation. The novelty of the studied approach to self-organization of the elderly lies in the possibility of its interpretation as a way of constructing a new social reality/activity of older people, where state assistance involves abandoning the dependent scenario (“come and take what you can take”), providing opportunities for individual development patterns (“come and create it yourself as you like“). As such a social reality, the features of self-organization of the elderly are considered using the example of the “Moscow Longevity” ecosystem. Conclusion. The leadership potential of elders, accumulated throughout life, and the willingness to organize their leisure time independently on the basis of the Moscow Longevity Centers are shown, and the specifics of self-organization of the elderly in the active longevity system of Moscow are revealed. There was made an important conclusion about the desire of the respondents to be active, and the effectiveness and interest of seniors in self-organization on the basis of the CML was shown.
Идентификаторы и классификаторы
Введение. История понятия «самоорганизация» начинается в 1947 г. с научной публикации «Principles of the Self-Organizing Dynamic System» британского кибернетика Уильяма Эшби (W. Ashby), в которой упоминается словосочетание «самоорганизующаяся система» [1]. Позднее данный термин стал использоваться и подвергаться анализу в других областях науки, в том числе и в социологии.
Самоорганизация – это самодостаточное явление в общественной жизни, которое способно проявляться в поведении индивидов, в самых разных социальных и возрастных группах или институтах. В табл. 1 представлена авторская группировка вариаций определения термина «самоорганизация» у российских исследователей.
Список литературы
1. Ashby W. Principles of the self-organizing dynamic system // The J. of general psychology. 1947. Vol. 37, iss. 2. P. 125-128. DOI: 10.1080/00221309.1947.9918144
2. Осинцева Л. М. Проблемы самоорганизации у обучающихся в Барнаульском юридическом институте МВД России // Полицейская деятельность. 2022. № 6. С. 62-70. DOI: 10.7256/2454-0692.2022.6.38862 EDN: YFEQVR
3. Бронникова Е. М. Самоорганизация менеджеров как инструмент повышения личной эффективности в индустрии гостеприимства // Сервис в России и за рубежом. 2013. № 6 (44). С. 97-104. EDN: QCBAWX
4. Богомаз С. А. Типологические особенности самоорганизации деятельности // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. № 344. С. 163-166. EDN: NEGSDF
5. Виноградский В. Г., Виноградская О. Я. Феномен самоорганизации сельского населения: принципы и перспективы исследования // Вестн. РУДН. Сер. Социология. 2023. Т. 23, № 2. С. 355- 367. DOI: 10.22363/2313-2272-2023-23-2-355-367 EDN: ROZNSD
6. Ахромеева Т. С., Малинецкий Г. Г., Посашков С. А. Новый взгляд на самоорганизацию в некоторых социальных системах // Социол. исслед. 2014. № 5. С. 3-15. EDN: SEJMVP
7. Иванова Т. С. Социальная самоорганизация молодежи: к постановке проблемы исследования // Власть и управление на Востоке России. 2007. № 4 (41). С. 215-219. EDN: JVXUAB
8. Леонов А. В., Пронин А. Ю. Принципы самоорганизации в разработке и реализации государственных программ // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2016. Т. 12, № 7 (340). С. 36-53. EDN: WFJZIP
9. Зубок Ю. А. Молодежь: жизненные стратегии в новой реальности // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2020. № 3. С. 4-12. DOI: 10.14515/monitoring.2020.3.1688 EDN: KFHOUI
10. Маюрова А. А., Лавренова Т. И. Самоорганизация пожилых людей в современном обществе как способ адаптации // Вестн. Пенз. гос. ун-та. 2016. № 4 (16). С. 29-32. EDN: YTOGRT
11. Киенко Т. С., Певная М. В., Птицына Н. А. Практики самоорганизации и социальной активности россиян старшего возраста как расширяющие возможности (“empowerment”) технологии // Вестн. Нижегор. ун-та им. Н. И. Лобачевского. Сер. Социальные науки. 2022. № 1 (65). С. 89-98. DOI: 10.52452/18115942_2022_1_89 EDN: FHPMXJ
12. Fuchs C. The self-organization of social movements // Systemic practice and action research. 2006. Vol. 19. P. 101-137. EDN: BBKOGB
13. Kelso J. Self-organizing dynamical systems // International encyclopedia of the social & behavioral sciences / N. Smelser and P. Baltes (eds.). Oxford: Elsevier, 2001. P. 13844-13850. DOI: 10.1016/B0-08-043076-7/00568-4
14. Hejl P. Towards a theory of social systems: Self-organization and self-maintenance, self-reference and syn-reference // Self-organization and management of social systems. Insights, promises, doubts, and questions / H. Ulrich (ed.). Berlin, Heidelberg, NY: Springer, 1984. P. 60-78.
15. Парсонс Т. О социальных системах / пер. с англ. Е. Молодцовой и др.; под ред. В. Ф. Чесноковой, С. А. Белановского. М.: Академический Проект, 2002.
16. Постановление Правительства Москвы от 13.02.2018 г. “О проведении в городе Москве пилотного проекта по расширению возможностей участия граждан старшего поколения в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях” // Консультант Плюс. URL: https://www.mos.ru/upload/documents/docs/63-PP(4).pdf (дата обращения: 01.02.2024).
17. Постановление Правительства Москвы от 18.12.2018 г. “О реализации в городе Москве проекта “Московское долголетие” // Консультант Плюс. URL: https://www.mos.ru/upload/documents/docs/d_663779044(1).pdf (дата обращения: 01.02.2024).
18. Швецова В. А. Динамика и взаимосвязь индивидуальной и коллективной самоорганизации студентов в процессе обучения // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9, № 2 (2), С. 254-258. DOI: 10.17748/2075-9908-2017-9-2/2-254-258 EDN: YOYJUX
19. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура / пер. с англ. E. H. Егоровой, З. В. Кагановой, В. Г. Николаева, Е. Р. Черемиссиновой. М.: АСТ: Хранитель, 2006.
20. Kalache A., Gatti A. Active ageing: a policy framework // Advances in gerontology. 2003. № 11. P. 7-18. DOI: 10.1080/713604647 EDN: PKIVFP
21. Havighurst, R. Successful
22. Franklin N., Tate C. Lifestyle and successful aging: an overview // American J. of Lifestyle Medicine. 2009. Vol. 3, iss. 1. Р. 6-11. DOI: 10.1177/1559827608326125
23. Bhusal D. The Honor of later life: active aging subjective concern and formal adaptive environment in Nepal // J. of gerontology & geriatric research. 2020. Vol. 9, iss. 3. Р. 1-4. DOI: 10.35248/2167-7182.20.9.515
24. Liang J., Luo B. Toward a discourse shift in social gerontology: from successful aging to harmonious aging // J. of Aging Studies. 2012. Vol. 26, iss. 3. Р. 327-334. DOI: 10.1016/j.jaging.2012.03.001
25. Bass S. A., Caro F. G., Chen Y.-P. Achieving a productive aging society. Westport, Conn.: Auburn House, 1993.
26. Dommaraju P., Wong S. The concept of productive aging / Assessments, treatments and modeling in aging and neurological disease / C. Martin, V. Preedy (eds.). Р. 3-11. London: Academic Press, 2021. DOI: 10.1016/b978-0-12-818000-6.00001-9
27. Kalache A., Kickbusch I. A global strategy for healthy ageing // World Health. 1997. Vol. 50, iss. 4. Р. 4-5.
28. Marina L., Ionas L. Active ageing and successful ageing as explicative models of positive evolutions to elderly people // Scientific Annals of Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Sociology and Social Work. 2012. Vol. 5, no. 1. Р. 79-91.
29. Tymowski Ja. European year for active ageing and solidarity between generations // European Parliamentary Research Service, 2012. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536344/EPRS_IDA(2015)536344_EN.pdf (дата обращения: 29.02.2024).
30. Live longer, work longer // OECD. Paris: OECD Publications, 2006. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/employment/live-longer-work-longer_9789264035881-en#page4 (дата обращения: 29.02.2024).
31. Active aging: a policy framework // WHO. Geneva, 2002. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 29.02.2024).
32. Григорьева И. А., Богданова Е. А. Концепция активного старения в Европе и России перед лицом пандемии COVID-19 // Laboratorium: журнал социальных исследований. 2020. Т. 12, № 2. С. 187-211. DOI: 10.25285/2078-1938-2020-12-2-187-211 EDN: WMGFWL
33. Калачикова О. Н., Короленко А. В., Нацун Л. Н. Теоретико-методологические основы исследования активного долголетия // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2023. № 1. С. 20-45. DOI: 10.14515/monitoring.2023.1.2209 EDN: TYOGUM
34. Sidorenko A., Zaidi A. Active ageing in Cis countries: semantics, challenges, and responses // Current Gerontology and Geriatrics Research. 2013. Vol. 2013, iss. 1. P. 1-17. DOI: 10.1155/2013/261819 EDN: ROHETX
35. Корнилова М. В. “Активное долголетие”: поиск ответов на новые вызовы (на примере программы “Московское долголетие”) // Дискурс. 2023. Т. 9, № 6. С. 74-89. DOI: 10.32603/2412-8562-2023-9-6-74-89 EDN: BJUKVF
36. Реутов Н. В. Государственная политика и практика обеспечения активного долголетия // Вестн. Университета. 2015. № 13. С. 291-293. EDN: WAWSVB
37. Григорьева И. А. Расширение возможностей (empowerment) людей старшего возраста в практиках самоорганизации и активности / отв. ред. Т. С. Киенко. Ростов н/Д.: Фонд науки и образования, 2022. 302 с.: рецензия // Журнал социологии и социальной антропологии. 2023. Т. 26, № 3. C. 251-257. DOI: 10.31119/jssa.2023.26.3.10 EDN: ZRRPWU
38. Концепция политики активного долголетия: науч.-методолог. доклад к XXI апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества / под ред. Л. Н. Овчаровой, М. А. Морозовой, О. В. Синявской. М.: Изд. дом ВШЭ, 2020.
39. Распоряжение Правительства России от 05.02.2016 г. №164-р “Стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года” // Гарант.ру. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71222816/?ysclid=lswzu0ouey774884964 (дата обращения: 13.01.2024).
40. Паспорт федерального проекта “Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения” // Минтруд России. 2019. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/ (дата обращения: 13.01.2024).
41. Корнилова М. В. Особенности восприятия активного долголетия старшим поколением // Социальное время. 2023. № 3 (35). С. 86-102. DOI: 10.25686/2410-0773.2023.3.86 EDN: DZFXVH
Выпуск
Другие статьи выпуска
Введение. В статье изложены результаты исследования детской речи, цель которого - выявление речевых инноваций, или окказионализмов. Под речевыми инновациями понимаются лексические единицы, встретившиеся в речи ребенка, но при этом отсутствующие в конвенциональном языке взрослых. Цель статьи - проанализировать выявленные в детской речи окказионализмы и описать процесс их конструирования, опираясь на установленные в этой научной области факты - этапы языкового онтогенеза и соответствующие им языковые компетенции. Методология и источники. В статье предложен анализ детских речевых инноваций, полученных в ходе организованного авторами эксперимента, участниками которого стали русскоговорящие монолингвы возрастом от трех до шести лет без особенностей развития. В исследовании применены такие методы психолингвистических экспериментов, как описание картинки и оффлайн-пересказ. Результаты и обсуждение. Выяснено, что, несмотря на свое несоответствие норме, инновации конструируются детьми с опорой на существующие в языке закономерности, а их отклонение от стандарта связано, как правило, с нехваткой языковых компетенций. При необходимости заполнить лакуну в высказывании лексемой, которая еще отсутствует в ментальном лексиконе ребенка, он прибегает к созданию собственной, являющейся эквивалентом уже существующего в языке слова. При этом созданная нестандартная лексема может включать элементы стандартных лексических и/или морфологических единиц, существующих в русском языке. Наблюдается также усложнение конструируемых форм с возрастом, что соответствует постепенному обогащению репертуара ментального лексикона и ментальной грамматики детей. Заключение. Анализ выявленных речевых инноваций показал, что освоение родного языка представляет собой процесс, полный закономерностей, которые прослеживаются в случаях с разными носителями. Так, предложенные в статье речевые инновации могут послужить дополнительным материалом для более масштабных исследований по изучению речевого онтогенеза.
Введение. В настоящее время изменяется русская ценностная картина мира под влиянием американской культуры как основного проводника глобализации. Выражением этих изменений становятся заимствования в разных видах дискурса, восприятие которых формируется в медийном дискурсе, играющем важную роль в осмыслении этих заимствований. Целью исследования является изучение особенностей медиапрезентации английских заимствований педагогического дискурса. Методология и источники. Основой исследования стал собранный тематический корпус текстов разных жанров: текстов форумов, статей медийных образовательных платформ и собственно медийных текстов общим объемом 42 тыс слов. Результаты и обсуждение. В статье рассмотрены особенности медиапрезентации импортированных концептов педагогического дискурса «тренд» и «рейтинг», которые выражают ключевую для американской культуры идею состязательности. Заимствование «тренд» тесно связано с контекстами употребления других заимствований, входящих в его содержательную структуру: «ноу-хау», «стартап», «хакатон» и др. и включает в свое интерпретационное поле понятия «инновация» и «модернизация», которые получают оценку, зависящую от субъекта оценочной квалификации. В интерпретационное поле концепта «рейтинг» входят такие слова, как «буллинг», «давление», «конкуренция». В большинстве медийных текстов «рейтинг» оценивается отрицательно как способствующий прагматическому подходу к получению знаний, вызывающий соперничество и негативные эмоции у детей и являющийся причиной психологических травм и проблем взаимоотношений в коллективе. Основой для метафорической концептуализации процессов, происходящих в образовании, служит основная метафора «человек-природа», а также метафора компьютерной игры и стоимости, позволяющие выделить ценностные акценты восприятия заимствований и отношение социума к осваиваемым явлениям. Заключение. Выявлено, что заимствования «тренд» и «рейтинг» обладают образно-ценностными характеристиками, имеют выраженную оценочную маркировку и метафорическую концептуализацию. Изучение заимствований педагогического дискурса указывает на значимость дискурсивного фактора в осмыслении концептов.
Введение. Средства массовой информации тесно связаны с дискурсом. Женская метафора в СМИ - это не простое отражение объективного мира, а избирательное и осознанное построение женского образа в реальности социума. В данном исследовании изучается метафорическое создание китайских женских образов через СМИ. Методология и источники. Автором была использована платформа WeChat, на которой производился поиск статей с заголовками, включающими определенные ключевые слова. В общей сложности 306 женских метафор были вручную идентифицированы и отобраны в качестве текстового корпуса. С помощью статистики частотности слов были отсортированы категории китайских женских метафор и проанализирован женский образ, сконструированный в СМИ. Результаты и обсуждение. Автором статьи было обнаружено, что исходные домены женских метафор в основном включают растения, животных, повседневные предметы, вымышленных персонажей, природу и окружающую среду. Женские метафоры можно проанализировать в следующих категориях: «женщина - цветок», «женщина - вода», «женщина - половина неба», «женщина - свет», «женщина - фея», «женщина - книга», «женщина - тигр», «женщина - драгоценность». Среди них «женщина - цветок» является наиболее частотной и доминирует над женскими метафорами, в ней красота цветов отражает красоту женщин, цветение цветов - молодость женщин, а аромат цветов выражает очарование женщин. «Женщина - вода», «женщина - половина неба», «женщина - свет» также являются частыми женскими метафорами, конструирующими нежность, высокий социальный статус, неповторимое очарование и выдающийся вклад женщины. Другие женские метафоры тоже играют определенную роль в создании идеи святости, мудрости, независимости, уверенности, силы, драгоценного характера женского образа. Эти метафоры создают различные понятия, передающие внешность, характер, способности и ценность женщин, и большинство женских образов являются красивыми и нежными. Заключение. Исходя из приведенных примеров становится очевидно, что построение женского образа в СМИ, с одной стороны, приобретает разнообразие, с другой - оно по-прежнему следует традиционной модели мышления. Автором предполагается, что гендерный дискурс в СМИ получил многогранность и развитие, но все еще нуждается в усилении построения равноправного женского образа в гармоничном обществе.
Введение. Статья посвящена выявлению структурно-прагматических особенностей ссылок на веру, представленных в такой разновидности общения, как научный диалог, предполагающий речевое взаимодействие субъектов научного познания и разворачивающийся в реплицирующем режиме на научном форуме любого формата с целью обсуждения и решения научной проблемы. Актуальность такого анализа обусловлена рядом факторов: ориентированностью современной лингвопрагматики на изучение самых разных типов и видов высказываний (в нашем случае - ссылок на веру), важностью интегративного подхода к анализу коммуникативных процессов и явлений и необходимостью разностороннего описания научного диалога как социально и лингвистически значимой разновидности коммуникации, а также целесообразностью межъязыкового ракурса исследований, направленного на выявление сходств и различий между национальными вариантами одного и того же типа общения. Методология и источники. Методологическую основу исследования составляют работы Н. А. Александровой, Е. Г. Задворной, Л. Н. Масловой, Е. С. Троянской, Л. В. Славгородской, Н. В. Соловьевой и других, посвященные исследованию научного диалога. Источником материала исследования служат стенограммы русско- и англоязычных устных научных дискуссий из разных областей знания (с 2000 г. по настоящее время). Анализ выполняется с опорой на системно-структурный, функционально-семантический и ситуативно-интерпретационный методы исследования. Результаты и обсуждение. В работе выявляется структура как диктумной, так и модусной частей ссылок на веру (сообщения со свернутым и развернутым диктумом, а также с вводной, независимой, придаточной и скрытой модусной рамкой), определяются прагматические и экспрессивные свойства различных структурных видов высказываний с модусом веры (апеллятивные и рефлексивные сообщения, а также более экспрессивные и менее экспрессивные). Заключение. В заключение формулируется вывод о структурном многообразии высказываний с модусом веры, свидетельствующем о значимости изучаемого феномена в структуре научного диалога, а также о некоторых особенностях использования ссылок на веру в русско- и англоязычном научном диалоге.
Введение. Основной целью настоящего исследования является комплексное описание условных конструкций в языке йемса. Существующие исследования не раскрывают структуру условных предложений в языке народа йем. Данное исследование призвано восполнить этот пробел. Методология и источники. Сбор данных осуществлялся методом элективного интервью с информантами на предмет условных предложений в языке йемса. Данные были проанализированы с использованием описательного подхода без учета какой-либо конкретной теоретической базы. Описание и анализ данных выполнены на базе общих определений и типологических классификаций условных конструкций в лингвистической литературе. Результаты и обсуждение. В рамках исследования были установлены антецедент и консеквент условных предложений. Показано использование морфем в различных типах условных предложений. Выделены канонические и неканонические формы условных конструкций. Семантическая классификация условных предложений языка йемса рассматривается на базе типологического взгляда, предложенного Томпсоном и др. Рассмотрены реальные, нереальные, контрфактические, гипотетические, уступительные и исключительные условные конструкции. В языке йемса протазис реального условного предложения отличается от протазиса нереального условного предложения. Подчиненное предложение (протазис) вводит некоторое условие, истинность которого не утверждается, при котором выполняется другое главное предложение (аподозис). Заключение. Исследование содержит синтаксические данные для сопоставительного синтаксического описания условных предложений в омотских языках и может быть использовано для дальнейших теоретических исследований, касающихся условных конструкций в целом.
Введение. В начале XXI в. появляются информационно-коммуникационные ресурсы, под влиянием которых начинается интенсивная цифровая общества и, как следствие, трансформация большинства социальных феноменов: процессов, институтов, общностей и т. д. Целью статьи является анализ цифрового неравенства как вида социального неравенства на основа существующих социологических подходов в отечественной и зарубежной науке. Основная проблема заключается в отсутствии систематизации научных публикаций, анализирующих подходы к определению понятия, механизма возникновения и социальных последствий цифрового неравенства. Методология и источники. Методология исследования базируется на социологическом и междисциплинарном подходе. В качестве источников использованы доклады ООН, Окинавской хартии глобального информационного общества, Всемирного банка. В отечественном поле разработка методологии исследований цифрового неравенства предпринималась О. М. Слеповой, Т. С. Мартыненко, О. Н. Вершинской, О. В. Волченко и др. Западный дискурс представлен прежде всего идеями Я. ван Дейка, П. Димаджио, М. Кастельса, Е. Харгитей, Д. Гарип. Проанализированы работы китайских исследователей Хуан Ронгуи, Гуй Юн, Чень Юнсун, Янь Хуэй и др. Результаты и обсуждени. Выявлена прямая зависимость между ростом уровня экономического развития и уровня цифрового неравенства. Раскрыта роль цифровизации, которая вносит кардинальные коррективы в классические критерии анализа социальной структуры общества. Показано, что в противовес росту цифрового неравенства формируются социальные связи поддержки, предполагающие выравнивание отношений к потенциалам информационного пространства. Заключение. Цифровое неравенство как явление, появившееся на стыке веков, продолжает усиливаться и оказывает непосредственное влияние на развитие новых форм социального неравенства. К традиционным критериям неравенства добавляются новые, формируется новый профиль социальной стратификации.
Введение. Цифровой мир меняет привычную нам реальность: объекты социального получают в сети свое воплощение. В новых условиях репутация становится все менее зависимой от субъекта метрической оценкой, как следствие, репутация влияет и на взаимодействие, и на возникающие в процессе взаимодействия нормы. В то же время виртуальный имидж индивида становится не менее значим, чем его реальный образ. В контексте активного интереса исследователей к имиджу и репутации обращает на себя внимание практически синонимичное употребление этих понятий. В связи с этим встает проблема разграничения значений исследуемых абстракций. Методология и источники. Применяется методология социологического, социально-психологического, лингвистического и междисциплинарного подходов. В качестве источников используется специальная литература, научные исследования и интернет-источники (НКРЯ), позволяющие изучать специфику понятий имиджа и репутации в цифровом обществе с точки зрения социологии управления. Результаты и обсуждение. Анализ понятия «имидж» показывает, что это неразрывно связанное с визуальным восприятием, целенаправленно создаваемое довольно устойчивое явление, базирующееся на стереотипах массового сознания и адресованное определенной аудитории; искусственно созданное высказывание символического характера. В отличие от имиджа репутация не может быть целенаправленно создана, так как рождается в процессе обмена мнениями как результат публичного дискурса и является оценкой - сравнением ожиданий и результатов конкретного взаимодействия. Заключение. Изучение понятий имиджа и репутации с социологической точки зрения позволило найти точки соприкосновения результатов исследований специалистов разных наук и выявить социологическую специфику каждого из понятий. Имидж - по сути своей симулякр, порождаемый субъектом, он призван сделать объект имиджа предметом желаний и интереса со стороны публики. Репутация - это вербализованная оценка (мнение), возникающая в результате социального взаимодействия в прагматическом контексте. Репутация в цифровом обществе выступает инструментом модуляции контроля. Имидж может быть «точкой входа», способом привлечь внимание незнакомой с агентом имиджа аудиторией. Актуализируясь в культурно-прагматическом контексте взаимодействия, имидж и репутация могут синергетически работать на благо своего агента. Конфликт между знаками, которые несет имидж, ожиданиями, которые он конструирует, и опытом, результирующимся в репутации, негативно влияет на последнюю.
Введение. Целью настоящей статьи является выявление функций пожилых граждан России в трудовой, социально-бытовой и публичной сферах и оценка выраженности этих функций в Арктической зоне Российской Федерации (далее - АЗРФ) в сравнении с общероссийской ситуацией. Актуальность темы обусловлена устойчивым трендом на старение населения России и необходимостью пересмотра роли пожилых граждан в различных сферах жизнедеятельности. Новизна исследования состоит в систематизации данных о вовлеченности пожилых россиян в трудовую, социально-бытовую и общественную деятельность, а также в сравнении связанных с этим общероссийских трендов с соответствующими процессами в АЗРФ. Методология и источники. Теоретические основы исследования составляют разработки зарубежных и отечественных авторов, специализирующихся на социальных аспектах старения, социальных практиках, в которые вовлекаются пожилые, их реинтеграции в экономику и публичную сферу. Эмпирическая часть статьи базируется на сравнительном анализе данных государственной статистики, опросных исследований и собственных данных авторов, полученных в результате проведения серии глубинных интервью с россиянами пожилого возраста, проживающими на территории АЗРФ. Результаты и обсуждение. Занятость пожилых демонстрирует снижающуюся динамику вплоть до 2022 г. как в России в целом, так и в АЗРФ. При этом в АЗРФ доля работающих пожилых граждан на протяжении последнего десятилетия остается стабильно выше среднероссийских значений. В социально-бытовой сфере высока значимость пожилых в уходе за детьми: в России в последние годы около трети пожилых выполняют эту функцию. Однако в АЗРФ доля таковых, наоборот, снизилась и составляет менее 1/5. В деятельность общественных объединений вовлечено минимальное число пожилых граждан. Подавляющее большинство из них приходится на членов профсоюзов, причем в АЗРФ таких более половины от общего числа вовлеченных в общественную активность. Заключение. На территориях АЗРФ степень реализации социально значимых функций пожилых россиян имеет определенную специфику, обусловленную, прежде всего, неблагоприятной демографической ситуацией, дефицитом трудовых ресурсов и высокой стоимостью жизни. Это объясняет большую занятость пожилого населения арктических регионов по сравнению с Россией в среднем. Другие показатели, отражающие социально значимые функции пожилых жителей АЗРФ, близки по своим значениям к общероссийским.
Введение. На протяжении последних двадцати лет в социально-политическом дискурсе активно используются термины «танатополитика», «некрополитика», «некроэкономика» и т. п. Но дефиниции этих значений остаются размытыми. В последние 4-5 лет их можно встретить и в русскоязычных статьях, а также в публичном пространстве блогов и youtube-каналов. Часто обращение к этим терминам связано с ангажированным высказываниями авторов из неакадемической среды. Цель данной статьи - обозначить область употребления термина «танатополитика» в академической литературе последних лет. Методология и источники. Исследование выполнено в логике генеалогического подхода. Основной предмет интереса - разрывы в дискурсе, когда одни и те же или схожие термины наполняются новым содержанием или получают новые интерпретации. Был выполнен анализ англоязычных статей по направлениям политической философии, критической теории, литературоведения, проблемам гендерных исследований, истории и экономики. Именно в этом языковом и проблемном поле термин обрел актуальные на сегодняшний день дефиниции. Результаты и обсуждение. В существующей англоязычной академической литературе можно выделить два подхода: 1) танатополитика - институционализированное государственное насилие, неэтичные технологии управления, которые позволяют суверену конвертировать смерть на своей территории в ресурсы и легитимность. Авторы, которые придерживаются этого подхода к проблеме, оперируют понятием «некрополитика», вместо «танатополитика», но бывают исключения. Они опираются на одноименное эссе А. Мбембе и занимаются левой критикой конкретных примеров неоколониализма; 2) танатополитика - создание социальных связей через производство знаний об угрозах, имманентных жизни. Это феномен, когда общность формируется в силу того, что она в любой момент может исчезнуть. Такой подход к проблеме танатополитики характерен для исследователей художественной культуры и современных цифровых медиа. Заключение. Авторы, которые используют в своей работе термин «танатополитика» и родственные ему, изучают диспозитив власть-смерть-знание. Однако его наличие в тексте не может быть однозначным маркером позиции исследователя. Иногда выбор этого термина - маркер критических выпадов в адрес конкретных политических решений государства. Но еще о танатополитике пишут авторы, изучающие горизонтальные социальные связи, порождаемые знанием о смерти.
Введение. Проблема анализа современного художественного пространства имеет свою эволюцию, ее генезис сводится к пониманию различного рода трансформаций по отношению к традиционному искусству как форме творческого восприятия действительности, в основе которой лежат духовные ценности. В результате эволюции творческого процесса большая часть современных арт-практик, особенно концептуальных, «изгоняют» антропологическое и эстетическое начала из искусства. Чтобы понять почему происходят такие процессы в художественно-эстетической действительности, анализируется проблема антропологической и эстетической трансформации современного искусства, основные тенденции и место человека в современном художественном процессе. Методология и источники. Автор использует, во-первых, герменевтическую методологию анализа художественных текстов и смысловых установок; во-вторых, комплекс художественно-эстетических и искусствоведческих методов, направленных на выявление и обобщение материалов, посвященных конкретным произведениям искусства и, в-третьих, философско-антропологическую методологию, анализирующую общекультурную ситуацию постмодерна и места в нем человека. Результаты и обсуждение. В результате обсуждений выявлено, что характерными особенностями современных художественных элитарно-концептуальных практик периода постмодерна являются: плюрализм и отказ от любых канонов; откровенное цитирование и заимствование; концептуализация любых жестов художника; множественность интерпретаций; многоуровневость восприятия; отказ от изобразительности; эксперимент с новыми формами; создание иллюзии «игры в реальность»; ирония, пастиш, черный юмор и эпатажность; наконец, «смерть автора» и утрата своего «Я». Заключение. В современной культуре концептуализм становится некой артикулируемой формой выражения художественного сознания постмодерна. Как только искусство выходит из своих границ, оно полностью трансформирует свои онтологические основания - исчезает его антропологический стержень и происходит «смерть автора». Продуктами концептуального творчества становятся некие симулякры языка, стиля или символики, имитирующие ранее существовавшие человеческие смысло-ценности. Такое искусство неантизирует человека с традиционной системой ценностей, извращает смысл самого творчества, трансформирует эстетические и антропологические установки творческого процесса.
Введение. Статья посвящена философскому анализу развития инструментальной структуры рациональной деятельности с учетом динамики взаимосвязи человека и машины в условиях интенсификации промышленного производства во второй половине ХХ в. и трансформаций субъектных взаимодействий в цифровой среде. Авторы рассматривают рациональную деятельность в ее специфически человеческой функции осмысленного и преобразующего отношения к миру, которое соотносится в социальном аспекте с инструментальным обеспечением производительного труда. Методология и источники. Исследование структуры деятельности осуществлено в рамках системного подхода с использованием историко-генетического метода в описании концептуального развития эргономики, которое положило начало междисциплинарному синтезу в развитии знания о структуры рациональной деятельности на базе антропологической установки в проектировании современных технологий. Познавательная перспектива системного подхода к анализу структуры рациональной деятельности позволяет объединить в одной концепции широкий спектр факторов, мотивирующих и регулирующих индивидуальные способности человека как реального субъекта действия в сочетании с информационными базами данных и конкретными условиями, включающими его в когнитивную сеть познания и социальные взаимодействия. Результаты и обсуждение. Рассмотрены междисциплинарные установки инженерной психологии и проблема субъекта в организации интерактивного цифрового пространства рациональной деятельности. Представлены характеристики машиноцентричной и антропоцентричной парадигмы проектирования человеко-машинных взаимодействий. Выделен переход к междисциплинарным установкам экологии человека, учитывающим базовое значение среды в этих взаимодействиях, а также к установкам цифровой экологии в проектировании сферы виртуальных интеракций. Заключение. Выполненное исследование познавательных установок в развитии эргономики показывает истоки междисциплинарного подхода к анализу структуры рациональной деятельности и возрастающую его актуальность в связи с необходимостью концептуализации инженерного знания, учитывающего социотехнический, человекоразмерный характер современных инновационных проектов во всех сферах деятельности.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- СПБГЭТУ ЛЭТИ
- Регион
- Россия, Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 197022, улица Профессора Попова, дом 5, литера Ф.
- Юр. адрес
- 197022, г Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул Профессора Попова, д 5 литера ф
- ФИО
- Шелудько Виктор Николаевич (РЕКТОР)
- E-mail адрес
- rector@etu.ru
- Контактный телефон
- +7 (812) 2344651
- Сайт
- https://etu.ru