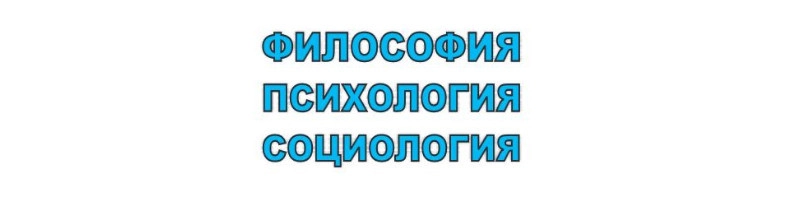Архив статей журнала
Актуальность темы обусловлена растущим уровнем прокрастинации и ее распространенности, на что оказывают влияние ряд социальных факторов, с которыми сталкиваются студенты. Проблема академической прокрастинации тесно связана с категориями социологии, как на теоретическом, так и эмпирическом уровнях. В настоящее время наблюдается усиление внимания к ней. В ходе анализа рассмотрены также противоречия в изучении данного явления, что обусловлено взаимодействием полученного субъективного опыта (ожиданий) с социальными факторами прокрастинации. Опрос показал, что 60,6 % респондентов сталкиваются с прокрастинацией; 47,2 % прокрастинируют при выполнении больших письменных заданий. На дистанционном обучении значимыми причинами прокрастинации оказались: кажущееся увеличение свободного времени и неправильная его оценка, бо́льшее количество заданий. 59,6 % респондентов хотят снизить прокрастинацию через планирование и саморегуляцию. Студенты, планирующие свою деятельность, достаточно редко сталкиваются с прокрастинацией, т. е. прокрастинация обратно пропорциональна планированию и саморегуляции, но этого недостаточно, чтобы утверждать, что основной причиной прокрастинации является нарушенная саморегуляция. Рассмотрено влияние социальных факторов, под воздействием которых в структуре академической прокрастинации наблюдаются изменения. Так, уменьшают прокрастинацию отличные оценки, распределение бытовых обязанностей, финансовая помощь родителей и высокий заработок, причем указанные факторы достаточно сильно коррелируют друг с другом. Усугубляют прокрастинацию: отсутствие консультаций со стороны преподавателей; бытовые хлопоты, самостоятельная работа; социальные сети. Выявлена тенденция усиления прокрастинации среди старших курсов во время сессии, а также при увеличении количества самостоятельной работы студентов. Это требует учета социальной составляющей в профилактике прокрастинации и обеспечении учебного планирования и распределения времени студентами.
В статье на эмпирическом уровне предпринята попытка соотнести между собой феномены субъектности и саморегуляции. Как показывают теоретические и эмпирические исследования, данные феномены тесно связаны. Однако нет однозначного понимания их соотношения: является ли саморегуляция частью субъектности, представляет ли самостоятельный феномен или имеет место пересечение систем? При этом субъектность видится нам как более фундаментальное явление, поэтому субъектность не рассматривалась как часть саморегуляции. В эмпирическом исследовании строились и тестировались несколько альтернативных моделей: 1) модель, предполагающая, что субъектность и саморегуляция представляют единый феномен (однофакторная); 2) модель, предполагающая, что саморегуляция является компонентом субъектности; 3) модель, предполагающая, что субъектность и саморегуляция - два независимых феномена; 4) модель, предполагающая взаимосвязь субъектности и саморегуляции; 5) модель, предполагающая пересечение систем, при котором субъектность использует отдельные свойства саморегуляции, а саморегуляция использует отдельные свойства субъектности, при этом оба феномена понимаются как самостоятельные. Приоритет отдавался последней модели. Проверка согласованности моделей эмпирическим данным осуществлялась на выборке 184 чел. в возрасте от 15 до 53 лет (M = 20.49, SD = 7.34), из них 104 женщин и 80 мужчин. Преимущественно это были студенты вузов и ссузов. Использовались методики «Уровень развития субъектности личности» (УРСЛ) М. А. Щукиной и опросник В. И. Моросановой «Стиль саморегуляции поведения - ССПМ 2020». Основным статистическим методом было моделирование структурными уравнениями. Наиболее согласованной с данными оказалась модель пересекающихся систем.