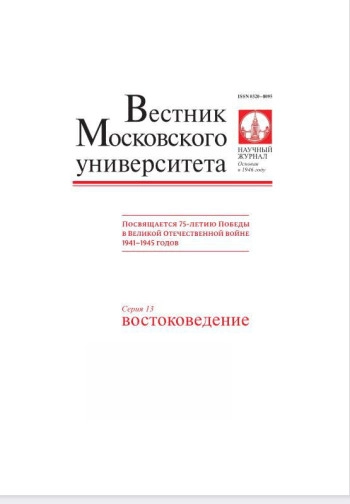Статьи в выпуске: 12
Экономическое развитие государства Израиль является важным вопросом не только в рамках исследований экономик региона Ближнего Востока, но и стран по всему миру. Небольшая по территории и бедная в сфере природных ресурсов, экономика Израиля оказалась отрезанной от регионального рынка с момента своего основания. Для построения рекурсивной и самообеспечивающей модели экономики было необходимо развивать сферу сельского хозяйства. Традиционная для страны отрасль поддерживалась за счет особенных сельскохозяйственных поселений. Данные поселения играют важную роль до сих пор. Более того, сельское хозяйство остается важной частью не только внутреннего рынка. Оформившееся еще с конца XIX в. производство фруктов и овощей является крупнейшей частью экспорта сельскохозяйственной продукции. Негативное влияние обострения израильско-палестинского конфликта сказалось и на сельском хозяйстве, однако рынок страны, неоднократно проходивший подобные трудности на протяжении последних 75 лет, показывает свою устойчивость к подобным колебаниям.
В персидской поэзии небо предстает как могучее Существо, непрестанное окружение, которое вокруг земли определяет ход времени и правит судьбами людей. Поэты прославляют высоту и величие небосвода, призывают его милость к себе или к тому, кому посвящено стихотворение, и часто обращаются к небу с упреками. Однако оно, как правило, не дает им ответа. В статье обсуждаются два случая, когда небо отвечает за обращение, и делают филологический перевод соответствующих отрывков. В одном главном персонаже поэмы суфийского поэта Фарида ад-Дина Аттара Мусибат-название «Книга скорбей» (XII в.), Странник-мысль (салик-и фикрат), то есть персонифицированная мысль, обращенная к небу в поисках утешения в своей метафизической скорби. Другой пример - обращение поэта к небу в поэме Фирдоуси Шах-наме. Обращения эти очень различны, но ответы одинаковы: оба фрагмента завершаются утверждением уникального места человека во Вселенной.
Трактат Лю Се (465/466-520/522) «Вэнь синь дяо лун» из 50 глав в наиболее систематической и полной форме представляет традиционную литературную теорию, литературной критику и историю древней и раннесредневековой литературы Китая. Его первый полный западный перевод на английский язык Винсента Ши (Vincent Yu-chung Shih, 施友忠, Ши Ючжун, 1902-2001) увидел свет только в 1959 году. В статье рассматриваются рецензии конца 1959 - начала 1961 годов зарубежных специалистов-литературоведов на перевод В. Ши. В них содержатся разноплановые оценки, предложения и критика первого иноязычного издания «Вэнь синь дяо лун», что является важным ресурсом для выработки параметров полного научного издания трактата на русском языке. Выбор трактата Лю Се в качестве источника у рецензентов не вызвал возражений. Отмечалась смелость переводчика, который взялся за столь трудный текст. Замечания касались структуры книги (Введение, текст перевода, Примечания, Глоссарий, Указатель), исполнения перевода, содержания Введения и научного аппарата книги. Перевод Винсента Ши стал значительным явлением в исследовании «Вэнь синь дяо лун» в мировой синологии. Рецензии указали на объективные трудности, многие из которых остаются актуальными до сих пор и связанны с недостатком переводов и изученности древней и раннесредневековой китайской литературы. Конец XX - начало XXI веков ознаменовались появлением семи новых переводов трактата на европейские языки, которые были вынуждены обращаться к переводу В. Ши, полемизировать или соглашаться с ним как в вопросах собственно перевода, так и в вопросах организации издания.
Настоящая статья представляет собой обзор работ, посвященных вопросам иероглифики на китайском и японском языках, классифицированных по основным темам и категориям к исследованию иероглифики, с целью вычленения их сходств и представлений. В статье о методе поиска русскоязычных подходов к изучению иероглифической системы письма во втором веке ХХ - начале ХХI века. Работы по китаистике и японистике охватывают темы письменности, лексикологии и грамматики, демонстрируя синхронизированный подход к изучению языков и культуры соответствующих стран. Во многом в японистике и синологии можно отметить различное понимание соответствующих проблем. Отмечается нехватка сравнительных исследований, посвященных сразу обоим языкам и их письменности, так как вышеописанные темы представлены отдельно в работах китаистов и японистов, из чего следует, что, несмотря на синхронизацию изучения лингвистических аспектов нижних языков, усилия по сопоставлению языков в рамках одной работы практически не наблюдаются.
История современного иврита ведет свой отсчет с XIX века, когда Элиезер Бен-Йегуда задался целью изменить статус «спящего»1 с III в. еврейского языка. Этот процесс получил название «возрождение иврита2». К сохранившейся в традиционной литературе основе были добавлены некоторые нововведения, характерные для славянской и германской языковым группам. Однако говорить об окончательном оформлении литературной нормы еще не приходилось. Иврит продолжал развиваться в период первых волн еврейских переселений из Европы в Эрец-Исраэль, впитывая региональные особенности переселенцев. Изменения в нем происходят и до сих пор. Модернизационные процессы в израильском обществе откладывают свой отпечаток на иврит. Язык пересматривает нормы, не актуальные для современного дискурса, приобретает неологизмы и сленг, отбрасывает безнадежно устаревшие элементы. Для стабилизации и кодификации постоянного развития были созданы специальные институции. Казалось бы, что они и должны стать подспорьем в вопросах изучения современного иврита, ведь именно на их постановления ориентирована вся учебная и методическая литература. Однако роль подобных организаций весьма неоднозначна. На практике они зачастую не решают спорные вопросы сопоставления литературной нормы и разговорного статуса, а оставляют их открытыми. Это ставит преподающего и изучающего современный иврит перед нравственным выбором: придерживаться изучения сухих правил или же иногда в ущерб им отдать предпочтение живому неформальному языку. Для иврита данная проблема носит характер экзистенциального вопроса, заложенного еще в период первых волн еврейских переселений на рубеже XIX-XX веков, и не имеющего однозначного ответа.
В статье рассматриваются вторичные актанты японского высказывания с точки зрения степени выраженности у них прототипических агентивных характеристик: целенаправленности, вовлеченности, способности осуществлять контроль, индивидуализированности и т.д. Материалом исследования послужил материал авторского параллельного русско-японского корпуса художественных произведений. Основное внимание уделяется падежному варьированию в оформлении вторичных актантов, т.к. случаи падежного чередования при оформлении высокоагентивных и низкоагентивных актантов демонстрируют значимость учета пропозициональной установки и прототипических агентивных признаков. В результате комплексного изучения агентивного потенциала вторичных актантов подтверждается, что процессы актантно-предикатного взаимовоздействия во многом определяются семантическими признаками не только главных, но и периферийных участников ситуации.
Данная статья основана на существующих исследованиях и опубликованных архивах и, систематизируя эту информацию, стремится как можно полнее отразить процесс принятия решения о восстановлении дипломатических отношений между Китаем и СССР в 1932 году. Основное внимание уделено анализу с точки зрения нанкинского правительства: рассмотрено концептуальное развитие и выбор интересов китайской и советской сторон в вопросах китайско-советских отношений и взаимодействия с Японией в этот период. Советско-китайские дипломатические отношения после 1931 года прошли относительно сложный процесс восстановления. В силу широко распространенных противоречий между Китаем и СССР, нанкинское правительство недоверчиво относилось к развитию отношений с СССР. В то же время, столкнувшись с беспорядками за пределами дальневосточной границы, СССР из осторожности и «недоверия к нанкинскому правительству» также предпринял ряд действий, которые расценивались как «развитие японо-советских отношений». Под растущим давлением Китай, наконец, решил начать переговоры с СССР о безоговорочном восстановлении дипломатических отношений, чтобы не допустить слишком близкого сближения СССР с Японией. Тот факт, что СССР постепенно стал рассматривать Японию как фактор нестабильности, также создал условия для восстановления советско-китайских дипломатических отношений и их дальнейшего развития.
В статье анализируется актуальная проблема гендерных отношений в Узбекистане в конце XX - начале XXI века, а также влияние взаимоотношений полов на экономику государства. В стране отмечается наличие значительного гендерного дисбаланса, проявляющегося в бытовом насилии, внушительном разрыве уровня заработной платы мужчин и женщин, принудительных браках и так далее - все это замедляет экономическое развитие государства. В работе изучаются статистические данные, отражающие занятость мужчин и женщин Узбекистана на рынке труда, законодательная база, регулирующая трудоустройство населения. Определяется роль менталитета и религии в формировании структуры гендерных отношений в экономической сфере. Отмечается устойчивость мусульманских традиций в обществе, что осложняет поиск методов достижения равноправия мужчин и женщин, не противоречащий устоям религии. Рассматривается сегрегация рынка труда Узбекистана и выделяются основные сферы занятости мужчин и женщин. Определяются причины возникновения гендерного дисбаланса, а также изучаются попытки его корректировки в политике. В работе рассматриваются особенности трудоустройства женщин, способы поощрения участия женщин в политической и социальной деятельности, а также эффективность используемых методов.
В статье представлен историографический обзор современных материалов, касающихся Западного Панджаба - области, составляющей в настоящее время пакистанскую провинцию Панджаб. Этнонациональная специфика данного региона в полной мере признается исследователями, однако осмысливается и интерпретируется ими по-разному. Основополагающим критерием в данном вопросе становится алгоритм «встраивания» западного Панджаба в более общий южноазиатский контекст. Детальное изучение работ, посвященных панджабской этнокультурной самобытности, позволяет нам выделить два основных исследовательских подхода: 1) рассмотрение особенностей региона в свете историко-культурного прошлого, насчитывающего несколько тысячелетий; 2) анализ исторического пути и современного положения Западного Панджаба, исходящий из политических реалий середины ХХ -ХХI вв. Если в первом случае за основу берется тезис о неотделимости западнопанджабской культуры от южноазиатской, то во втором акцент делается на специфике Западного Панджаба как территории с мусульманским большинством населения; вхождение ее в Пакистан представляется естественным и неоспоримым результатом исторического развития субконтинента в ХХ в.
Статья посвящена анализу научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока в преддверии 270-летней годовщины Московского университета. Авторы ставили своей основной целью дать объективную оценку современного состояния кафедры и ее вклада в развитие российского гуманитарного знания, определить ее место в структуре университетской науки и образования. Подобное исследование дает возможность охарактеризовать специфику подготовки российских востоковедов - специалистов по странам ближне-, средневосточного и североафриканского регионов, истории и культуре ислама в стенах Московского университета. Наряду с этим, оно позволяет составить адекватное представление о сформировавшихся на кафедре научных школах, уровне проводимых ею научных изысканий, с тем чтобы оценить многогранную работу кафедрального коллектива в рамках общероссийских и международных востоковедных исследовательских проектов. В ходе работы было убедительно продемонстрировано, что на современном этапе кафедра истории стран Ближнего и Среднего Востока прочно заняла свою нишу в структуре отечественного востоковедения, став важной составной частью российского гуманитарного сообщества, признанным центром обучения и воспитания квалифицированных востоковедных кадров для нужд страны.
В статье рассматриваются различные этапы деятельности историко-политологического отделения ИСАА МГУ, основные тенденции в развитии научной жизни отдельных кафедр, отражающие специфику развития конкретных регионов афро-азиатского мира, и отделения в целом, выделяющие общие черты в историческом и современном развитии Востока.
ИСАА в течение десятилетий является флагманов подготовки специалистов по самому широкому спектру знаний, связанным с развитием Азии и Африки. ИСАА, безусловно, является символом и одновременно отражением всех этапов развития советского и российского востоковедения. Главная задача Института - сохраняя традиции классического востоковедения, отвечать на запросы сегодняшнего дня, предлагать востребованные, научно-обоснованные программы подготовки, расширять программы подготовки, усиливать свою расширять свою роль как центра экспертного востоковедения, укреплять научные и прикладные партнерства, и отвечать национальным запросам развития России.